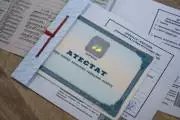За последние два месяца в СМИ появилось множество разного рода текстов, в которых так или иначе обыгрывается (нередко без ссылки на автора) определение революционной ситуации - мол, она возникает тогда, когда «верхи не могут, а низы не хотят». Исходя из этого, делаются выводы, иногда весьма далеко идущие, и строятся тактические и стратегические планы действий оппозиции.
Беру на себя смелость напомнить, что автором этого «общеизвестного определение революционной ситуации», как оно чаще всего носит в масс-медиа, является некий Владимир Ульянов-Ленин, лидер российских большевиков и премьер первого в мире тоталитарного государства. Что отнюдь не должно, однако, мешать обращению к ленинскому теоретическому наследию, в котором есть немало интересного и полезного, потому что этот российский политик был незаурядным мастером революционной тактики и революционного действия (со стратегией хуже, ведь незадолго до смерти Ленин признал: «мы полностью провалились»). Но если уж цитировать Ленина и использовать его формулы, то следует делать это компетентно, а не по-дилетантском, вспоминая только «верхи» и «низы».
Вот ленинская формула революционной ситуации в ее полном виде (статья «Крах II Интернационала», цитирую языком оригинала):
«Для марксиста не подлежит сомнению, что революция невозможна без революционной ситуации, причем не всякая революционная ситуация производит к революции. Каковы, вообще говоря, признаки революционной ситуации? Мы наверное не ошибемся, если укажем следующие три главные признака:
1) Невозможность для господствующих классов сохранить в неизмененном виде свое господство; тот или иной кризис «верхов», кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов. Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому.
2) Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов.
3) Значительное повышение, в силу указанных причин, активности масс, в «мирную» эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами», к самостоятельному историческому выступлению. ...Не из всякой революционной ситуации возникает революция, а лишь из такой ситуации, когда к перечисленным выше объективным переменам присоединяется субъективная, именно: присоединяется способное революционного класса на революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, которое никогда, даже и в эпоху кризисов, не «упадет», если его не «уронят».
Можно соглашаться с Лениным, можно не соглашаться, но, как видим, он рассматривал возникновения революционной ситуации и превращения ее в революцию куда более «стереоскопически», чем некоторые современные, не слишком образованные, энтузиасты революционной действия.